Интервью с Павлом Ждановым, директором издательства «Охотник»
Магадан — город свободных людей
Интервьюер — Варвара Шилова
социолог-политпиарщик, фотограф, РГГУ, г. МоскваКакой стереотип о Магадане наиболее распространен?
В России вообще сейчас мало кто знает о Магадане. Многие, особенно молодое поколение, где город находится, они даже географически не понимают. А для старшего поколения, те, которые сюда не приезжали, которое знает легенды, мифы и так далее, так или иначе, всё сводится, к шаблонной фразе «Лучше уж вы к нам».
Но, если люди сюда едут, они что-то знают, хоть в какой-то степени что-то читали. Например, если мы говорим про иностранных туристов, то это достаточно просвещенные люди. Они читали Солженицына, Шаламова, Гинсбург — это стандартный набор у них. Больше обычно ничего не читали, и про Колыму больше ничего не знают. То есть, у них есть знания о том, что здесь была некая лагерная система, что здесь сидели люди, что они вот так страдали, и в таком духе. Не более того. Наверное, это один из самых укоренившихся, устоявшихся и имеющих право на существование, так сказать, мифов. Просто это одна из сторон жизни, и все, на этом дело заканчивается. Если мы говорим о времени Дальстроя, они ничего не знают о культуре в этот период, они ничего не знают ни о театре, ни о живописи. И, по большому счету, они не особо знают, что такое золотодобыча, и чем живет территория.
С одной стороны, если ты начинающий журналист, может быть, это и хорошо. Когда ты приезжаешь, вообще ничего не знаешь, начинаешь тыкаться, так сказать, туда-сюда носиком, складывается абсолютно неправильное представление о территории. Ну и бог с ним, да? Оно зато очень личностное и хорошее.
Но, если люди сюда едут, они что-то знают, хоть в какой-то степени что-то читали. Например, если мы говорим про иностранных туристов, то это достаточно просвещенные люди. Они читали Солженицына, Шаламова, Гинсбург — это стандартный набор у них. Больше обычно ничего не читали, и про Колыму больше ничего не знают. То есть, у них есть знания о том, что здесь была некая лагерная система, что здесь сидели люди, что они вот так страдали, и в таком духе. Не более того. Наверное, это один из самых укоренившихся, устоявшихся и имеющих право на существование, так сказать, мифов. Просто это одна из сторон жизни, и все, на этом дело заканчивается. Если мы говорим о времени Дальстроя, они ничего не знают о культуре в этот период, они ничего не знают ни о театре, ни о живописи. И, по большому счету, они не особо знают, что такое золотодобыча, и чем живет территория.
С одной стороны, если ты начинающий журналист, может быть, это и хорошо. Когда ты приезжаешь, вообще ничего не знаешь, начинаешь тыкаться, так сказать, туда-сюда носиком, складывается абсолютно неправильное представление о территории. Ну и бог с ним, да? Оно зато очень личностное и хорошее.
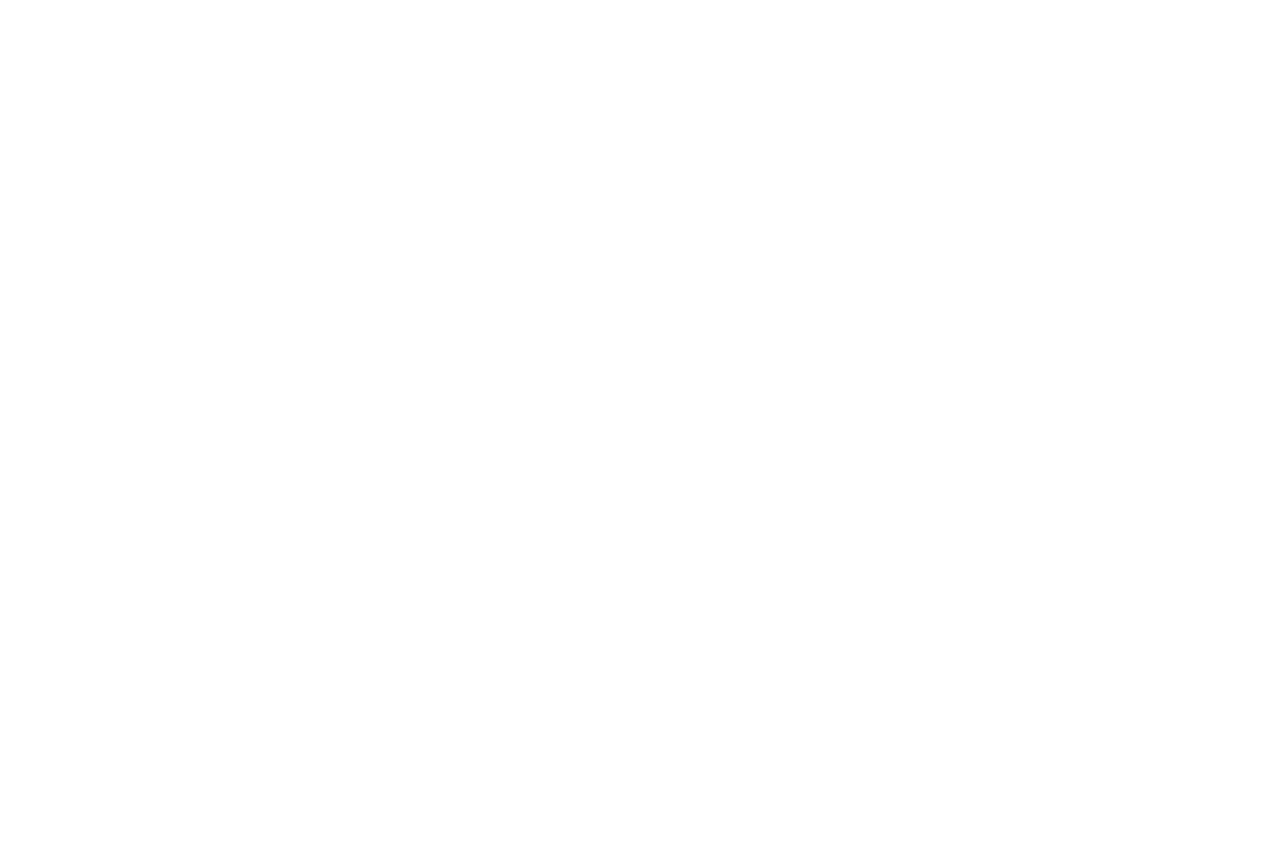
Многие люди сюда приезжают, я вообще не понимаю, зачем. Они приезжают заработать здесь или отсидеться из Донецка, Луганска. И им здесь абсолютно не заходит территория, им кажется, что здесь всё одно и то же, пейзаж один и тот же. Для меня, например, пейзаж здесь абсолютно разный. И вся территория разная, и природа здесь разная. И меня, удивляет, когда такие люди, прожив 5−6 лет в городе, ездят какими-то странными маршрутами, хотя можно ездить более короткими и выгодными, удобными — то есть они не знают город, даже через 5 лет этот город не стал их городом. Обычно, в старые времена, такие люди просто не приживались, они через 3 года уезжали, потому-что была система договоров: через 3 года заканчивался договор, они получали свои деньги, которые зарабатывали, и уезжали отсюда. Очень многие оставались, но это отдельный разговор.
Администрация, правительство, многие люди говорят: «Сколько можно говорить о этих лагерях, об этих зэках, давайте забудем». Это, во-первых, наивно, это невозможно забыть, потому что есть в мировой литературе огромный литературный пласт, который так или иначе касается истории Колымы и освоения Северо-Востока. Соответственно, он и будет существовать, через это люди будут узнавать про Колыму, про Магадан. И бессмысленно это вычеркивать отсюда. Другое дело, нужно расширять представление о территории, говорить, что вот это другое. Я уверен, что многие, живущие сегодня здесь, в Магадане, они об этом вообще ничего не знают. Не нужно о людях думать лучше, чем они есть на самом деле. Люди в массе своей нелюбопытные, малоинтересующиеся. Предки этих людей, их деды, отцы, матери, которые сюда приехали и у которых они родились, это были люди интересные, безусловно. Их что-то подняло с насиженных мест, принесло сюда на север, они здесь жили, работали. А вот их потомки оказались, ну скажем, не очень достойны своих предков. Я хочу сказать, что особых стереотипов на сегодняшний день нет.
Администрация, правительство, многие люди говорят: «Сколько можно говорить о этих лагерях, об этих зэках, давайте забудем». Это, во-первых, наивно, это невозможно забыть, потому что есть в мировой литературе огромный литературный пласт, который так или иначе касается истории Колымы и освоения Северо-Востока. Соответственно, он и будет существовать, через это люди будут узнавать про Колыму, про Магадан. И бессмысленно это вычеркивать отсюда. Другое дело, нужно расширять представление о территории, говорить, что вот это другое. Я уверен, что многие, живущие сегодня здесь, в Магадане, они об этом вообще ничего не знают. Не нужно о людях думать лучше, чем они есть на самом деле. Люди в массе своей нелюбопытные, малоинтересующиеся. Предки этих людей, их деды, отцы, матери, которые сюда приехали и у которых они родились, это были люди интересные, безусловно. Их что-то подняло с насиженных мест, принесло сюда на север, они здесь жили, работали. А вот их потомки оказались, ну скажем, не очень достойны своих предков. Я хочу сказать, что особых стереотипов на сегодняшний день нет.

То есть, на данный момент, каких-то особых стереотипов нет, люди просто ничего не знают толком?
Да, конечно. Ну, сейчас люди, которые вот в массе своей вдруг поехали не только на Камчатку, на Сахалин, а теперь поехали в Магадан, они, естественно, ну хотя бы на уровне путеводителя что-то получают, какую-то информацию. Глупо ехать и ничего не знать про Кипр, Сицилию, Италию, про Мальдивы, про Гавайи. Нужно хоть что-то знать для того, чтобы чувствовать себя относительно комфортно на той или иной территории. Поэтому, естественно, люди что-то читают и про Магадан знают больше с каждым годом. Ну и средства массовой информации помогают — телевизор, например и соцсети. В итоге, какой-то массив информации ты получаешь прежде, чем сюда приехать.
Чего никто в России не знает о Магадане?
Ну, во-первых, что здесь так безумно красиво, потому что я знаю массу людей, которые сюда прилетели работать — лётчики, вертолётчики, которые в восторге, которые, облетев и проработав на территории всей нашей страны необъятной, на Таймыре, в Хабаровском крае, где тоже красиво, естественно, но они, прилетев сюда, говорят, что здесь самое красивое из всех мест.
Нам, живущим здесь, этого не понять, потому что мы в этом живем: ты не удивляешься, что тут красиво, ты же это каждый день видишь. Ко многим вещам мы привыкаем. Поэтому, конечно, для многих людей, которые здесь впервые оказались, тот или иной мыс, остров, какая-то часть побережья или материковой части Магадана, производят впечатление. Но основная часть людей не видит территорию, для них она ограничивается тем, что видит человек из окна, когда он едет по Трассе, например.
Нам, живущим здесь, этого не понять, потому что мы в этом живем: ты не удивляешься, что тут красиво, ты же это каждый день видишь. Ко многим вещам мы привыкаем. Поэтому, конечно, для многих людей, которые здесь впервые оказались, тот или иной мыс, остров, какая-то часть побережья или материковой части Магадана, производят впечатление. Но основная часть людей не видит территорию, для них она ограничивается тем, что видит человек из окна, когда он едет по Трассе, например.
Если бы вам пришлось рекомендовать кому-то посетить Магадан, что бы вы сказали, чтобы его заинтересовать?
Когда-то Гёте оказался на Сицилии он сказал, что если у вас есть только один день в Италии, вам нужно оказаться в Таормина. Соответственно, если вы оказались на территории Магаданской области, тут таких Таормин, очень много. Если есть возможность и есть один день, я думаю, что надо побывать в районе гор больших порогов на пересечении Колымы и Бахапчи. Это не очень большой район, но самый, на мой взгляд, потрясающий, самый красивый на всей территории области. Это потрясающие реки, великолепные горы, там можно посмотреть и как золото добывают, то есть всё в одном стакане. И при этом очень интересно.
Как вы думаете, что самое важное нужно знать о Магадане человеку, который никогда тут не был, но хочет понять его суть, его идею?
Я, может быть, идеализирую, но мне кажется, человек, который хочет понять, он должен понять, что если мы говорим о коренных, о магаданцах, то это очень свободные люди. И он должен понимать, что он живет с людьми, у которых степень свободы значительно выше, чем у него.
Свобода умственная или физическая что-то сделать?
Свобода действия, свобода мышления, свобода понимания. Мне кажется, что человек, который живет на территории, мыслит намного масштабнее, нежели человек, живущий в центральной полосе России. Я не про Москву говорю. Это несколько другое. Мегаполисы — это другое.
Что значит масштабнее?
Он себя воспринимает частью огромного мира, а не маленькой деревни.
На самом деле, довольно парадоксальный ответ, потому что все говорят, что вот в Москве себя чувствуешь в ритме всего мира и так далее.
Это говорят молодые люди, потому что они себя здесь-то не осознали еще. Потому что их здесь водили в детский сад, в школу, и очень многие, которые здесь закончили школу, когда им говоришь «пойдем на Марчеканскую сопку» или «пойдем на Ногаевскую сопку», они даже не понимают, о чём речь, они не знают. То есть, это издержки воспитания, новая генерация, я не говорю о том, что она плохая, ни в коем случае — она такая корявая, ничего не знающая, им естественно кажется, что там в центре все «золото», а потом через некоторое время, когда они понимают, что это не так, все открывается. Это как в человеческих отношениях: хочешь ты понять человека — поймешь его, а не хочешь — не поймешь, неважно: рядом он, или не рядом. Вот я Москву очень люблю, бывать люблю там, работать, общаться с людьми, приезжаю с огромным удовольствием, но я, наверное, не смог бы жить в Москве, не говоря уже о Твери, Туле, и даже в Петербурге — мне тесно.
А здесь свободно?
Здесь — конечно. Здесь можно пройти немного, а вокруг уже совершенно другой мир, который постоянно изменяется. Можно провести параллель с Москвой: у Кремля мир один, в Замоскворечье — другой, в Сокольниках — третий, и всё постоянно в движении, есть динамика. Мне нравится динамика и это характерно как раз и для Колымы. Это объединяет Москву и Колыму. Может парадоксально это звучит, но да. Потому что здесь всё в движении.
А «движ» он какой: людской или природный?
Природный, эмоциональный безусловно. Все зависит опять от человека. Если ты такой интроверт и сидишь зажатый, не общаешься с кем-то, то у тебя и жизнь такая же будет — в ящике будешь сидеть, замкнутым. Здесь можно путешествовать. Здесь ты можешь из одного состояния перейти в другое очень легко. Не нужно отправляться в какие-то дальние путешествия. Вот смотри, берем Москву — сама по себе прекрасна, но это город, и если ты хочешь выбраться куда-то, то тебе нужно пилить очень далеко и долго. Здесь ты вышел — через 20 минут ты на горе, через 15 минут ты — у моря, через полчаса — у другого моря, и так далее. Здесь это — легко. Ты просто оторви свое тело от стула и через какое-то время ты уже в другом месте. Погода меняется все время здесь. Здесь всё время вот так всё меняется: в пейзаже меняется, в погоде меняется, в жизни. Ты здесь живешь достаточно быстро.
Хотели бы вы, чтобы Магадан стал местом проведения крупных международных или всероссийских фестивалей? И если да, то каких?
У нас же здесь есть старательский фарт, когда люди съезжаются со всей страны. Может, он еще не такой масштабный, но все это проводится. Здесь большого фестиваля не провести, слишком маленькое население, потому что фестивалю нужна все-таки масса людей, которые будут смотреть, встречать. Ну вот, например, недавно День Охотского моря, который проходил, еще другие праздники, мне кажется, люди остались довольны, потому что все вдруг себя увидели. За многие годы последние они видели, как нас много живет в этом городе. Когда они пошли на берег бухты, в парк, смотрели концерты, смотрели эти фонтаны, смотрели за салютом, который военные корабли, пришедшие специально для этого, давали и так далее.
Ну, конечно, хочется, чтобы люди ехали, ведь моя работа как раз во многом строится на том, что я хочу, чтобы приезжало как можно больше людей сюда, чтобы они видели это, узнали об этом. Это такое наивное, донкихотство, когда ты хочешь изменить мир, создавая какой-то культурный слой. Я прекрасно понимаю, что этого не произойдет, но если ты в этом воспитан, если с этим ты рос, ты от этого не избавишься. Это как любовь к матери. То же самое и здесь. Ты работаешь, потому что тебе это доставляет удовольствие, и ты хочешь этим удовольствием, этим счастьем поделиться с другими людьми. Это не всегда получается, но всегда радуешься, когда вдруг есть какой-то результат.
Чем отличается творческое сообщество Магадана от творческих сообществ остальной России?
Если мы говорим, о Магадане, о котором все вспоминают и говорят, что это культурная столица Северо-Востока и прочее, я спокойно к этому отношусь, но достаточно скептически. Наверное, так было в какой-то степени, когда в 60-е и 70-е годы здесь было много культурных, образованных людей, которые здесь жили и между собой очень плотно общались. И сформировался вот этот образ абсолютно мифический. Это были педагоги, актёры, писатели, журналисты, художники. Этот слой людей был достаточно большой. В 90-е годы эти люди или уехали, или многие из них умерли. Этот слой стал намного меньше. А иллюзия, что Магадан таким остаётся, она постепенно слабела, слабела, слабела. Сейчас мы думаем: «было столько писателей, журналистов, художников, и так далее, и так далее, и это были такие величины. А сейчас этого нет». Во-первых, литература очень неплохая есть, художники есть прекрасные, но это просто другое время. Я думаю, что мы в счастливом времени находимся сегодня, потому что формируется новая культурная формация. Она, может быть, не будет иметь связи с предыдущей, по той причине, что в 90-е, нить преемственности прервалась. Но это не значит, что ее не будет. Она создастся молодыми, которые ничего не знают про Куваева, Мифтахутдинова, Васильева, Христофорова, Португалова, ничего не знают о многих художниках, которые здесь жили, да и ничего страшного. Сформируется новое, и эти новые все равно будут из этого источника рано или поздно пить, потому что им нужно будет что-то новое открыть для себя, и они откроют.
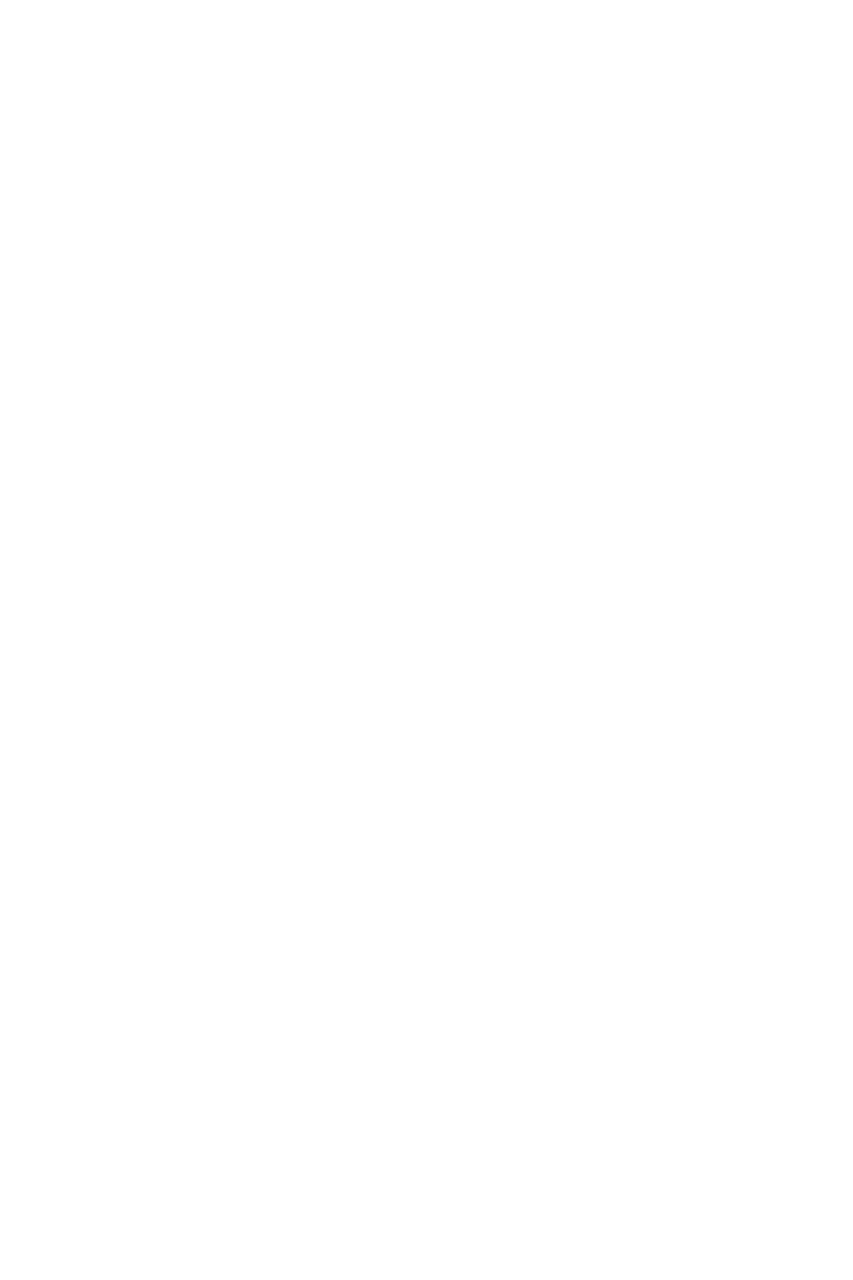
То есть отличается от остальных сообществ в России тем, что оно претерпело вот такой путь развития: нить прервалась, и теперь это нечто совершенно новое.
Я думаю, да. Но я думаю, это и в России все это произошло. Но в России есть большое количество театров, большое количество музеев и так далее, и вот эта преемственность, она несколько иная. И те люди, которые здесь работали, и потом начался в 90-е годы исход, они уехали туда. И всё хорошее, что они здесь имели, они перенесли опять туда, в центральную часть. Это такая особенность территории.
Насколько искушен магаданский зритель и публика?
Я буду краток. Мне кажется, очень неискушен. Я понимаю, что многим будет обидно это слышать. Не насмотрен, не начитан и очень, в этом смысле, не образован. Вот это такая прям катастрофа. Я могу сказать, что в Магадане, есть 500-600 читающих людей, приблизительно столько же людей, которые ходят и знают театр, приблизительно столько же людей, которые знают музыку — в общей сложности, если мы все это соберем, мы наберем тысячи две-три таких людей. Из девяносто шести тысяч всего населения. Надо же не забывать о том, что отток продолжается, люди уезжают, и даже те молодые люди, которые что-то получили, эту базу получили от своих родителей, от своих дедов, они в один прекрасный день поехали и поступили в Московский университет, в Баумановское, в Герцена, и так далее. И остались там. Потому что возвращаться им пока, на сегодняшний день, некуда. Всегда может вернуться тот, кто получил горное образование, тот, кто получил образование автомобилиста — практические профессии, но их не очень много, к сожалению. Потребность есть, а людей нет, и потребность в этих практических специальностях заполняют не просто вахтовики, а приезжие люди других национальностей, у которых вообще нет связи с корнями российскими, ну и русскими в самом широком смысле.
С какими трудностями сталкиваются творцы и талантливые люди с Севера и Дальнего Востока? И наоборот, какими уникальными возможностями они располагают?
Трудности, наверное, те, что они чувствуют какую-то свою невостребованность. Они творят, в стол, в мастерскую. Очень мало выставок, мало галерей, мало каких-то залов, где бы могли они выставляться. Художнику нужно выставляться все время, чтобы его видели. И это не касается дня открытия выставки, когда человек 100 пришло, ну если повезло, — ему нужно, чтобы шли люди каждый день. Каждый, каждый день, так сказать, смотрели и должен быть выхлоп в средствах массовой информации, в литературе и так далее. Этого как раз у человека искусства, культуры очень мало здесь. Я не говорю про танцевальные коллективы, которые пляшут на сценах, во время праздников, я говорю о Творцах. Творец — всегда индивидуален, он всегда – одиночка, вот, это касается и писателя, и поэта, и художника, костореза. Это проблема. Ну, а преимущество здесь — воспитание характера и воли. Творец здесь хочет творить — и продолжает творить, хочет жить этим — он этим и живет, прекрасно понимая, что вряд-ли кто-то это купит.
В общем, сложность в том, что ты можешь творить, но тебя не готовы воспринять?
Конечно. И, самое главное, тебя даже негде выставить для того, чтобы тебя хоть в какой-то степени воспринимали. Некуда и некому. У нас, кроме Рынды, нет какого-то выставочного зала, где можно было бы выставляться. Даже один-два зала в краеведческом музее — мало, просто мало.
А Творцов в Магадане намного больше?
Творцов — больше, конечно. И, если мы посмотрим фонды музея, которые можно было бы выставлять и выставлять бесконечно – ну, это просто грандиозно. А люди об этом не знают, это не выставляется, и вот это формирование вкуса, образованности, как раз не происходит. Когда вот в 60-е и 70-е всем тоже негде было, по большому счету, выставляться, не было и требований твоих личных, что всё должно быть обязательно в рамах, красиво и качественно оформлено и выставлено в приличном месте.Как было — написали четыре картины в каких-то дешевых рамах, повесили просто — и все радуются. То же самое касалось графики и, в какой-то степени, литературы, и все «отрабатывались». здесь. Сегодня время изменилось, это нормально, абсолютно. Но вот это как раз мы «упаковать» и оформить, к сожалению, не можем. Рында — слишком маленькое арт-пространство, оно не может решить этот вопрос.
Какие знаковые места, площадки, события в Магадане
объединяют творческих людей?
объединяют творческих людей?
Знаешь, я думаю, их нет.
Ни событий, ни мест, ни локаций, вообще ничего?
Ну, музей и областная библиотека Пушкина — два таких культурных центра., и сейчас в какой-то степени театр. Но он не может объединять, потому что театр объединяет актеров. Я с трудом могу припомнить полноценную и интересную фото-выставку. У нас нет ни одного приличного книжного магазина. То есть, отсутствие книжного магазина в городе, этим уже все сказано. У нас уже почти нет учебного заведения, то есть он громко называется университет, но если мы посмотрим, сколько там факультетов, то выяснится, что там есть у института, институт и так далее, и все. Они просто семимильными шагами идут к тому, чтобы броситься с обрыва, самоуничтожиться. А что такое город, в котором нет высшего учебного заведения? Это — вообще не город.
Это не центр притяжения, это центр оттока, здесь остаются только пенсионеры и рабочие.
Конечно. Мой внук поступил в Герцена, и всех моих друзей дети поступили в ВУЗы за пределами Магадана. Есть дети, которые поступили в политехнический техникум — это немножко другое, они собираются здесь остаться, работать в горной промышленности, но этого не так много. Ну и те же горняки могли бы здесь в большем объёме оставаться, заканчивать высшие учебные заведения. Потому что, смотришь: что такое город? Это мало того, что университет, это еще и преподавательский состав, это еще и традиции. В университете ты должен вырастить своего преподавателя, научить его учить других. Если этого не происходит, то гибель, печалька.
Может ли изоляция от крупных культурных центров быть
преимуществом и дает ли она особый взгляд на искусство?
преимуществом и дает ли она особый взгляд на искусство?
Нет, не может, ни в коем случае. Знаешь, это как не выступать спортсмену на спортивных соревнованиях, художнику не выставляться за пределами территории, писателю не печататься за пределами территории. У нас единственное, исторически-сложившееся, что нас, наверное, спасает по-прежнему и не дает нам окончательно утонуть, это то, что мы регулярно ездим в отпуск. Мы едем куда-то, стараемся своим детям дать максимально за вот этот вот промежуток времени, полтора-два месяца. Мы их водим в театры, выставочные залы, концертные залы, и так далее, и так далее. Бедные наши дети, я по себе помню: мы приезжаем на Материк, и начинаются музеи, спектакли, и так далее. Но мы напитываемся – родители напитываются этим, и возвращаемся. Поэтому здесь изоляции, как таковой, нет. Если у тебя есть возможность купить билет, или ты бюджетник, которому раз в два года оплачивают такой отпуск, то ты обязательно поедешь и все что нужно увидишь и посетишь. Но это же опять от человека зависит. Если он приехал в деревню к бабушке и сидит на огороде где-нибудь в Иваново, выращивает капусту и не водит своих детей никуда, это уже другой вопрос. Я говорю о некой традиции, которая поможет сохранить всё. Традиция такая: мы приезжаем в центр и стараемся ребенка максимально напитать культурой. Есть у тебя неделя — бедный ребенок, он эту всю неделю «воет»: «папа, я уже не хочу туда, зачем?», — потому что мы в этот день его сводим на ВДНХ, сводим на башню в Москва-Сити и еще куда-нибудь. И он уже скулит, потому что потом еще по плану в Третьяковскую галерею идти. И то же самое в Питере.
А насчет особого взгляда на искусство? Дает его удаленность или тоже нет?
Мне кажется, нет. Ну, как бы, печально… Но, знаешь, я так более широко скажу: ничего страшного, если человек не ходит на выставки, если он не читает книг, как бы это ни звучало из уст издателя. Если он чувствует себя здесь свободным человеком, на этой территории, если он чувствует себя свободным в перемещении, в общении и так далее, мне кажется, что это важнее, чем получает ли он на этой территории «культурность». Потому что великолепие этого мира, природы, оно делает тебя особым человеком.
То есть, главное быть не пустым человеком?
Конечно. Это, кстати, очень важный, отдельный совершенно вопрос. Не важно, кто ты, а важно, чем ты живешь. Если ты живешь — прекрасно, если ты не живешь — ничего не поможет. Ни пять образований, ни шесть языков, которые ты выучил.
Куда направлено творчество магаданцев: наружу или внутрь? Возможно ли в Магадане соблюдать баланс между локальными темами и универсальными сюжетами, понятными всем?
Ничего не мешает, абсолютно. Если мы говорим об искусстве, здесь человек свободен, ты можешь делать что угодно — тебя все-равно не купят, тебя все равно не выставят. Поэтому, ты свободный человек: твори что хочешь. Хочешь вправо — иди, хочешь влево — иди, хочешь вверх иди, хочешь вниз.
А направлено творчество в основном внутрь, то есть на себя, на историю края, или наружу?
Это философский вопрос. Я же сужу по тому кругу людей, с которыми я общаюсь, людей с которыми я живу. В моем кругу значительно больше людей, которые работают вовне, они хотят что-то отдать, что-то сделать и так далее, а в другом кругу может и наоборот. Я могу только говорить за себя и то, как я оцениваю.
Если бы у вас были неограниченные ресурсы, какой бы проект
в Магадане вы бы реализовали?
в Магадане вы бы реализовали?
Я же занимаюсь книгоиздательством — я бы сделал прекрасный книжный магазин. Я бы издавал еще больше, я бы нормальное сделал издательство. Вот, Вася Авченко приехал, и мне говорит: «А ты знаешь вот этого писателя?». Я говорю: «Нет, не знаю.» Он говорит, что он в журнале «Москва» публикуется. Тут про меня многие не знают, живут здесь и не знают. 22 года издательству, а они удивляются: «Да вы что, издательство, «Охотник», в Магадане?!», — и так далее, и так далее. Не от того, что я не рекламируюсь — мы уже выпустили больше двухсот книг, они по всей стране ходят, есть соцсети, есть в конце-концов магазины, которые за пределами Магадана находятся, и люди такие, удивляются: «Вот это да, издательство!». Конечно бы я сделал много чего. Мне очень обидно, что на Камчатке несколько книжных магазинов, несколько издательств, есть журналы, в конце-концов. То же самое на Сахалине, то же самое есть в Владивостоке, Благовещенске и так далее, но факторов очень много. Мы можем сетовать и говорить: «Вот, министерство культуры такое-сякое!»,– и так далее, но спрос рождает предложение.
Ничего на зеркало пенять, коли рожа крива.
Совершенно верно. Все происходит, как должно произойти. Рано или поздно сформируется вкус, появится аудитория, и так далее. Но, с другой стороны, если мы возьмем последние несколько лет — еще десять лет назад было два книжных магазина. Сегодня у нас всего пара средних магазинов. Это говорит о том, что у людей нет интереса. Люди думают, что никто не читает. Люди-то читают, и интерес к книге остается. Вот такая вот у нас печалька, вот эти 2000 человек. В свое время я делал журнал «Восточный форпост». Он был такой, политический. У нас было аудитории где-то человек 500. Потом я стал делать «спутник пассажира». Я сделал бортовой журнал, а потом компания Магаданские авиалинии обанкротилась — мне было жалко журнал, и я его еще несколько лет издавал. Журналов 200 я продавал, и 300 я еще, так сказать, раздавал людям. Я шутил: «У нас есть 400 человек в городе, из них 200 могут купить этот журнал, а 200 хотят прочитать, но не могут его купить». Ситуация мало изменилась. Печалька. Но я думаю, что это глобально и всей страны касается.
Какой бы вы дали совет молодым творцам, режиссерам, художникам, музыкантам, писателям, которые хотят творить вдали от столицы?
Пишите и делайте то, что интересно тем людям, которые здесь живут. А им интересно только то, что касается непосредственно места, в котором они здесь живут. Вот смотри: факультет журналистики, они заканчивают и пишут работу, например, «что-то в журнале Vogue» или «что-то в журнале New York Times», на худой конец «что-то в Комсомольской правде». Но они не пишут про Магаданскую правду, они не пишут про Магаданский комсомолец, про тех журналистов, которые здесь работали. Они вообще не касаются той области, в которой они живут. Но в целом, если их лично не интересует судьба, ни литературы, ни журналистики, ни художников, ни судьба вообще территории, образования, в конце концов, а они пишут, защищают свои курсовые или дипломы, не связанные с территорией. Я мог бы посоветовать: любите то, что рядом с вами, занимайтесь тем, что окружает вас, потому что это интересно всем, кто живет вокруг вас… Вот этот вот человек, который не знает про здешние места, историю, людей, он, конечно, и будет писать про журнал Vogue или New York Times, и он не будет здесь оставаться, потому что ничего не знает. Это проблема. Пиши про своего деда, пиши про своего отца, пиши про свою мать, сестру и так далее. Людям интересно вообще всё только то, что их касается и их близких… Это очень простая истина, а вот понимания её нет.
Как Магадан повлиял на ваше творчество, стремление творить?
И как он влияет на других людей?
И как он влияет на других людей?
Я люблю Магадан. Даже не Магадан, я люблю Колыму, территорию, край. Мне очень нравятся те люди, которые работают на приисках, на полигонах. Даже те, которые, сравнительно недавно приехали и отработали один сезон, они меняются, территория меняет этих людей. Они становятся, если хочешь, я скажу такое страшное слово, настоящими. Чего не очень часто встретишь в Москве или в центральной полосе России. Потому-что для этих людей важна работа, дело. Это, наверное, одна из важнейших лактусовых бумажек, показателей, которые отличают человека, который работает на реальном производстве. Эти люди знают, что им нужно столько-то сделать для того, чтобы они добыли такое количество золота. Есть конкретные цели, есть конкретные задачи, они конкретно работают. С этими людьми очень интересно разговаривать, потому что они целостные, и за это я люблю Колыму. Потому что они вот такие. В городе это уже размыто, чем дальше от территории — тем больше размывается. Ну и люблю территорию, конечно, за свободу, которая вокруг нас: ты можешь идти куда угодно, делать что угодно там, и так далее. Я люблю за ощущение свободы и «движ», который здесь постоянно происходит. Магадан взращивает в людях свободу и «настоящесть».